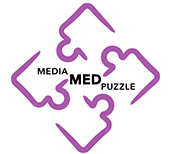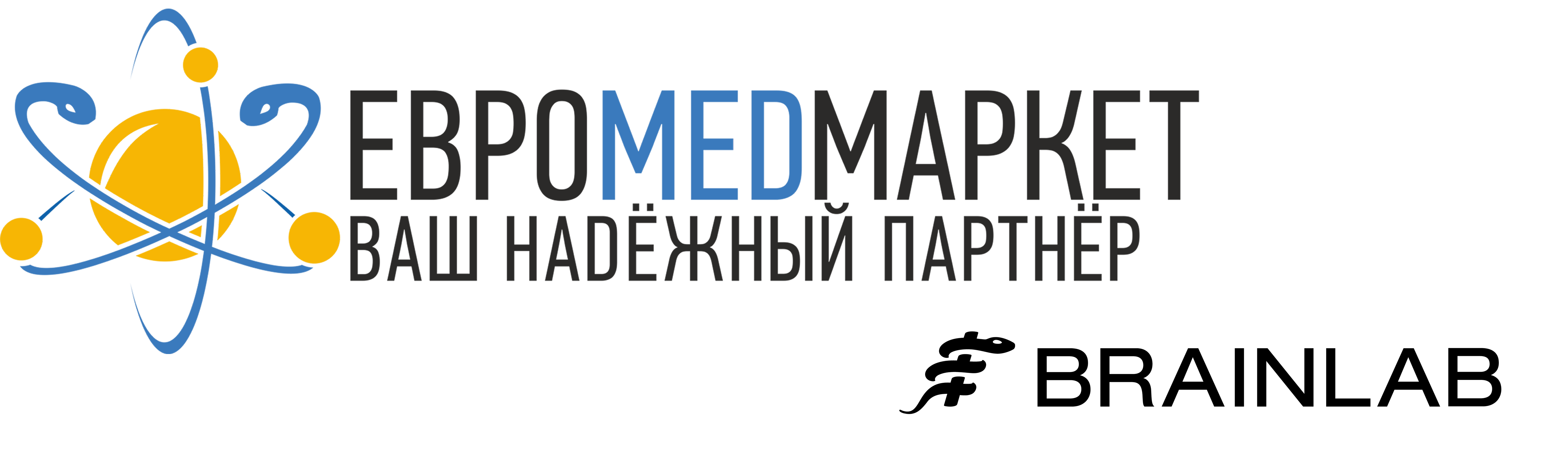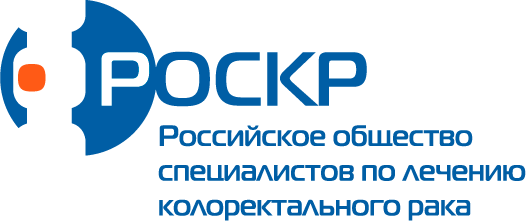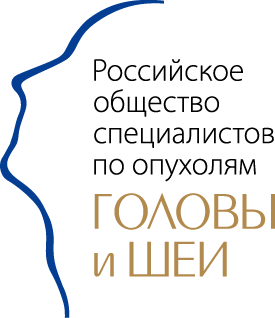Статьи
Ангелы добра Леонида Лазебника
Уговорить на портретное интервью Леонида Борисовича Лазебника — профессора, одного из ведущих экспертов в гериатрии, гастроэнтерологии и кардиологии, автора более 800 научных работ, 14 монографий и 25 изобретений — было трудно. «Зачем? Все давно сказано!»
«Но ведь портретного интервью, когда вы говорите не о медицине, а о себе, с вами не делали»,— возражала я. «И кому интересно, когда родился-женился, как учился?» «Новому поколению врачей, живущих в других реалиях»,— не сдавалась я. «Что было, то есть и сейчас, а что будет, то уже было»,— прятался за цитату из Екклесиаста* Лазебник. «Вот именно,— радовалась я, надеясь взять царя Соломона в союзники,—древний мудрец тоже за преемственность!» Видимо, моя апелляция к царю Соломону и решила исход поединка. «Ладно, приезжайте, поговорим. Но недолго, работы много».
— Леонид Борисович, на наших глазах происходит смена эпох. Люди, которые помнят искусство врачевания 60–70-х, еще здесь и, дай Бог, будут здесь еще долго…
— Нет, не долго…
— Как не долго? Надеюсь, долго, вы все-таки врачи…
— Знаете, недавно на одном празднике мне надо было сказать что-то смешное, и я произнес: «Друзья, давайте не будем желать мне здоровья и долгой жизни, потому что я состою из обрезков органов и протезов, я почти робот: медицина творит чудеса». Но вы правы, эпоха уходит — не только в медицине, в культуре. Наши учителя закладывали в нас дух преемственности, и для меня это были титаны, ведь сам себя я тогда чувствовал амбициозным ничтожеством. Как и любой молодой человек.
— Не все к себе так критичны …
— (Пауза.) Но ведь мы договорились, что я говорю правду.
— Тогда давайте сразу и начистоту. Леонид Борисович, вы себя избранником Божьим не считаете?
—???
— Я про главное чудо вашей жизни. Вы родились 11 января 1941 года в Москве, и разве не Божье чудо, что ребенок, появившийся на свет за несколько месяцев до войны, просто выжил?
— Никогда об этом не задумывался. Мне было 5 месяцев, когда началась война. Отца с первых дней призвали в армию, почти сразу он был тяжело ранен, и его перевезли в Сибирь. А мы, семья моей мамы, жили в Москве.
— В Москве 41-го? Летом? Осенью?
— Нас эвакуировали только в середине октября, как и всех.
— Страшно представить Москву осени 41-го… Был момент, когда фашисты, прорвав оборону, подошли почти вплотную к столице! А в октябре, когда шел черный снег—черный, потому что жгли архивы,— началась паника…
— Паника в Москве случилась 16 октября. И фашисты были уже там, где сейчас стоят «Ежи» — знаменитый монумент на 23-м километре Ленинградского шоссе в Химкинском районе Московской области. После паники начали всех эвакуировать, и наша семья, поскольку дед, мамин отец, служил в милиции, тоже была эвакуирована—куда-то в Башкирию. Поезд, в котором мы ехали, бомбили. Во время бомбежки мама, закрывая меня собой, выскочила из вагона и впопыхах потеряла одну туфлю. Так в Башкирию и приехала—в одной туфле.
— Золушка осени 1941-го!
— Но я, конечно, ничего этого не помню, и мои первые воспоминания — о салюте.
— 1945-го?
— Не скажу. Просто зрительный образ — повсюду яркий-яркий свет.
— Так и видишь ребенка, который широко раскрытыми глазами смотрит на расцветающее разноцветными огнями небо.
— После эвакуации семья вернулась в Москву, и я хорошо помню послевоенные московские очереди, в которых стояли мы, дети. Продукты были по карточкам, чтобы их получить, надо было занять очередь, записать свой номер, а потом прибегать и отмечаться: мама с бабушкой подходили, когда карточки уже отоваривали.
— Голодное было время?
— Наверное, жили скудно, но, если честно, я этого не ощутил. Детство мое было дворовым—московское и деревенское. Но мы не бандитствовали, не воровали, обошлось без уголовных привычек. Был футбол, разные игры, лапта. Жили бедно, но дружно. С друзьями по подъезду вместе ходили в школу, и в их семьях я понемногу узнавал что-то новое. От семьи Бори Геонджиана приобрел какие-то навыки в технике и в инженерном деле—родители его работали в Мосэнерго. А в семье Морозовых узнавал о поэзии и классической музыке. Помню, как дома у Жоры Морозова впервые услышал арию Мефистофеля, и она меня поразила!


А летом была деревня—Завидово, где у моих прадедушки и прабабушки был свой дом. Прабабушке, любимой бабе Дуне, я многим обязан. Вот уж была хозяйка—от Бога! Всё умела! Всё, что она готовила, было безумно вкусно, хотя очень просто. Она и солила, и мариновала. Капуста, огурцы у нас были оттуда, от бабы Дуни.
В деревне вместе с друзьями мы ходили за хлебом. Хлеб привозили в 9 или в 10 утра. Но мы приходили заранее—занимали очередь. Стояли, ждали, смотрели, как на переезде пропускают поезда: сначала шла «Красная стрела», потом первый дизель, затем второй дизель, и вот после второго—мы это знали!—шли фуры, везущие хлеб. И мы стояли и считали: если идут две фуры, то хлеб достанется всем, а если одна — на всех не хватит. И дальше мы возвращались с этим хлебом по пригорку домой, в «избу», как там говорили, а по пригорку идти тяжело, и мы от наших буханок потихоньку что-то отщипывали. И хлеб был такой вкусный!
— Леонид Борисович, но медициной пока в этой истории и не пахнет.
— Была общая культура, а книги я тогда просто глотал! У деда Петра по линии мамы была хорошая библиотека, он окончил четыре класса реального училища, а бабушка — два класса церковно-приходской школы. Но они очень много читали, и страсть к чтению у меня от них. А у одной из наших соседок по Завидово, учительницы, тоже была отличная библиотека, и те книги, что она мне давала, для меня становились настоящим сокровищем. Помню, как меня поразил Куприн, особенно «Листригоны» и «Суламифь».
— Это вы уже были подростком?
— (Смеется.) Ну, еще не совсем подростком…
— Воображение юного пионера не осталось равнодушным к шедевру? «Живот твой как круглая чаша, в которой ароматное вино, а груди как виноградные кисти. Сотовый мед в устах твоих, о Суламифь, Суламита». Правда, сейчас я цитирую не столько Куприна, сколько книгу «Песнь Песней».
— А «Суламифь» Куприна и навеяна «Песнью Песней» из Библии. Хотя тогда я этого не знал, половину не понимал, но меня потрясла поэтика! И только позже я понял: и Екклесиаст, и «Песнь Песней»— из одного источника.
— И там и там один автор — царь Соломон. Кстати, в интерпретации Куприна на перстне Соломона была выбита цитата из Екклесиаста: «Все проходит». Но главное, что поражает в «Суламифи» — это чувственность, эротизм. В эпоху официоза — как окно в другой мир, что-то, чего в нашей жизни не было.
— Да все у нас было! И любовь, и комсомол, и весна! (Смеется.) Какие были походы, ночевки, костры! А вожатые? Молодые, задорные!
— Кипучая энергия молодости, которую государство умело направляло в правильное русло — на созидание.
— В том государстве все было правильно. Могу только согласиться с покойным академиком Андреем Ивановичем Воробьевым, называвшим себя «насквозь советским человеком». Ведь это была особая социальная культура — советские люди, и мы до сих пор вспоминаем это с романтикой и тоской. И себя я тоже ощущаю абсолютно советским человеком.
Куда поступать после школы, я не знал, и дед по линии отца — Дмитрий, сказал: «Ленька, ты должен стать врачом, как твоя бабушка (до войны она была гинекологом, преподавала в 3-м меде). Но ты должен стать военным врачом», — и летом 58-го года я поехал поступать в Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова. Помню, как меня удивило, что среди родителей моих сверстников много генералов, героев Советского Союза, партийных боссов.
Сначала все шло хорошо. У меня был третий юношеский разряд по бегу, я пробежал быстрее всех, но что-то не срослось: на экзаменах получил 19 баллов из 20 и не прошел. Расстроенный, я вернулся в Москву и подал документы в Первый мед. Здесь после трех экзаменов получил 12 баллов из 15 — три четверки. Подумав, что и здесь мимо, я решил устроиться на работу в автобусный парк, поэтому в день сдачи последнего экзамена пришел забирать документы.
Знаете, бывает, встречаешь святых людей, и то, что они тебе говорят, запоминаешь на всю жизнь. Так и тут: навстречу мне вышел святой человек — Александр Петрович Громов, председатель приемной комиссии, заведующий кафедрой судебной медицины. Вышел и спрашивает: «Почему ты хочешь забрать документы?» — «Ну, а чего? В академии я набрал 19 баллов и не прошел, а здесь у меня всего 12. Физику на 5 я не сдам». А он: «Я тебе скажу не для выноса. Если получишь 17 баллов — ты прошел на сто процентов, если сдашь на 4 — на девяносто. Будешь сдавать?»—«Так экзамен сегодня, а я не пришел!» — «Приходи завтра». Я пришел, получил четверку и вскоре увидел свою фамилию в списках зачисленных.
— Леонид Борисович, по прошествии времени вы можете понять, почему Громов так сделал? Он увидел в вас что-то особенное?
— А что во мне, дворовом мальчишке, могло быть особенным? Был недобор. Нужны были мальчики.
Так я начал учиться, мало понимая, что анатомию нужно зубрить, не задумываясь. Но пришлось. Наш преподаватель по анатомии — Михаил Семенович Жарков был тоже святой человек. Он учил нас работать на скелете, а потом, уже когда мы разбирали анатомию внутренних органов, то задавал любимый вопрос: «А у баб?»

— А медицина вам сразу понравилась?
— Я долго не мог себя найти. Мне не нравилась химия, и только потом я понял: какой же я был дурак, что так мало ее учил! Долго не мог разобраться в клинике внутренней медицины, хотя у нас этот предмет вела замечательный педагог — Валентина Сергеевна Голочевская. Но сначала было ощущение полного тумана, и, признаюсь, на 3-м курсе я схватил двойки по основным дисциплинам: внутренней медицине и общей хирургии! Понимание болезней пришло только на 4-м курсе, когда началась факультетская клиника, ее вели Владимир Никитич Виноградов и Зинаида Адамовна Бондарь. Мне вообще кажется, что сначала надо преподавать факультетскую клинику и только потом пропедевтику. Потому что, когда тебе говорят: «Пальпируйте», — то я пальпирую, но все равно ничего не вижу и не чувствую! И только позже, уяснив, что там внутри и как это может болеть, я осознал, как именно надо пальпировать. И мне это понравилось. Я понял, что хочу быть терапевтом. И буду, конечно, кардиологом, как Виталий Григорьевич Попов.
— И здесь не обошлось без вашей любимой «Суламифи»? С одной стороны, как писал Куприн, в царе Соломоне был такой избыток жизненных сил, что он исцелял от черной меланхолии. С другой — сердце ведь не только мышечный мешок, но и вместилище чувств!
— Может быть. К гуманитарному у меня всегда было влечение.
— Еще бы! Ваша книга про доктора Гааза и других «ангелов добра» — историческое расследование, но в форме литературного эссе. Да и ваши лекции— не только передача медицинских знаний, тут еще и дар слова.
— Доктор Гааз—для меня образец служения врача. Но у меня есть еще несколько книг по истории медицины, не читали? Работая над ними, я сделал для себя много открытий.** Cейчас я увлечен лекциями. На них я рассказываю о тех больных, которых видел и знаю, естественно, не называя имен. Но с лекциями интересная вещь: как-то заметил, что, читая их, непроизвольно строю свою речь по законам ритмики.
— Лекторское искусство еще и сродни актерству.
— Да, но осознаешь это не сразу. Это потом я уже тренировался перед зеркалом, а вначале — ну кто бы об этом мне сказал? А тогда передо мной, студентом, стояли другие задачи, надо было расти, становиться профессионалом. Плюс с первого курса я уже работал санитаром приемного покоя Первой Градской больницы, потом медбратом в МОНИКИ и в реанимации Басманной больницы, а на 6-м курсе уже участковым терапевтом. До сих пор, уж похвастаюсь, я могу виртуозно провезти лежачую каталку — никогда не зацеплю за угол и больного не уроню, не ударю.
— То есть перестилали постели, выносили судна?
— Все делал. Чтобы стать президентом, надо начинать с чернорабочего. Нас так учили. И за это я бесконечно благодарен виноградовской клинике, вот это была школа! Помню, как мы писали истории болезни, а моя учительница Элла Гавриловна Лейзеровская (кстати, первая советская женщина-бронхоскопист) их рвала. Рвала, повторяя: «Переписать, переписать, переписать!!!!»
— Зачем рвала?
— Учила нас все излагать правильно. Мне она как-то сказала: «Леня, что у вас такое плачущее выражение лица, вы ведь всего восьмой раз переписываете!»
— Как Лев Николаевич Толстой, который тоже восемь раз переписывал «Войну и мир», правда, техническую работу за него делала жена Софья Андреевна.
— Нет, мы все делали сами. И кровь брали сами, и капельницы ставили, и дуоденальное, и желудочное зондирование — все сами, не сестры, мы. Сначала надо было прийти рано утром — подготовить иглы, шприцы, пробирки. А взяв кровь, надо было принести ее в лабораторию, где заведующая, сделав большие невинные глаза, говорила: «Лень, ну ты расскажи, чего мы должны сделать? И зачем? Мы все сделаем, только ты объясни».
А еще существовал температурный лист, и его надо было заполнять. Температуру проставляла сестра, а остальное — пульс, давление, стул, сколько мочи, какие лекарства назначали — это отображали мы. И вот идет на обход Виталий Григорьевич Попов — личность легендарная. На фронт Попов ушел добровольцем—врачом в медсанбат. Когда войска отступали, не желая бросить тяжелораненых, Попов остался и попал в плен, отсидев до конца войны в фашистских концлагерях. После войны по приглашению Виноградова Виталий Григорьевич пришел работать в клинику факультетской терапии, и каждый его обход становился ярким событием.
Вот в палату на двадцать с лишним человек входит Виталий Григорьевич — громогласный богатырь двухметрового роста: решительная походка, халат нараспашку. За ним семенит свита, все ловят каждое слово, каждый взгляд мэтра. Доходит черед и до моего больного. Виталий Григорьевич садится рядом, берет написанную мной историю болезни, температурный лист, кладет руки больному на живот и начинает пальпировать сигмовидную кишку. И я с ужасом вижу, как пальцы Попова по ней перекатываются! С ужасом, потому что у меня в температурном листе в том месте, где отмечают стул, стоят крестики — на каждый день по крестику! А Виталий Григорьевич тем временем спрашивает больного: «По большому-то давно ходил?» — «Да, профессор, почитай три дня не было!» — отвечает тот. И тут Виталий Григорьевич, брезгливо подняв мой листочек, поворачивается ко мне и на всю палату, на всю свиту раскатисто спрашивает: «Свой, что ль, стул отмечаешь-то?» Такие ситуации — школа на всю жизнь. С тех пор я никогда никакие выдуманные данные ни в какой медицинский документ не вношу.

— Леонид Борисович, слушаю вас и вспоминаю трилогию Юрия Германа о врачах «Дорогой мой человек», «Дело, которому ты служишь», «Я отвечаю за все». А сегодня у студентов та же мотивация на служение, как в этих книгах, которыми зачитывались в 60-е и 70-е?
— Полагаю, они их не читают, но они, безусловно, очень образованны. И не только в Москве. Как-то после моей лекции в одном из южных городов ко мне подошли молодые девочки-врачи из Чечни, так я был поражен уровнем их вопросов и рассуждений, настолько это было мощно. Они пришли посоветоваться в отношении диагноза, и, представьте, редкую болезнь они вычислили абсолютно точно! Сегодня все сидят в компьютерах, и там есть все. А мы — врачи моего поколения — жили в эпоху принятия сложных решений. В книгах по медицинской кибернетике это называют умением балансировать вероятностями. И тут важен мой опыт врача: я должен правильно оценить, чем рискую я и чем рискует пациент.
— В каком смысле «чем рискуете вы»?
— А как же? Ко мне пришел человек, я несу ответственность за его жизнь, за его здоровье. И я начинаю балансировать вероятностями. Но сейчас все упрощено, и умение балансировать вероятностями во внимание не берут—а зачем, если есть приборы, которые все покажут? Кроме того, мы живем в эпоху формализованной медицины. А раз так, к чему думать? Что у вас болит? Живот? Так. Где: справа, слева? Угу. Сверху, снизу? О-о-о, понятно, у вас вот это. Назначим вам вот то — и проблема решена. При такой формализованной медицине человек-врач не нужен, и к этому все идет. Будущее за искусственным интеллектом и роботами.
Но ведь бывают сложные диагностические или лечебные случаи, когда у человека несколько болезней или болезнь скрыта. И тогда врач должен принять решение о лучшем способе излечения — более эффективном и более безопасном, более дешевом и более прогностически благоприятном. Вот это и есть умение балансировать вероятностями. И тут важен врачебный опыт.
 — Но если медицина формализована, откуда взяться опыту? Выходит, несмотря на приборы, врачебные ошибки все равно будут.
— Но если медицина формализована, откуда взяться опыту? Выходит, несмотря на приборы, врачебные ошибки все равно будут.
— Я воспитан на формуле: «Врачебная ошибка есть добросовестное заблуждение врача». Она была выведена в судебной медицине, и в советское время имела полную правомочность. А вот то, что мы видели в последние годы предковидного периода,—это «уголовная ответственность за совершенную ошибку».
Знаете, как-то давно-давно мы с женой и дочерями ехали куда-то отдыхать—у нас только-только появилась машина. И вот проезжаем мы какую-то деревню и видим: стоит группа мужиков, сгрудившись вокруг лежащего на земле человека, а у того судороги. Я остановил машину, подошел, и оказалось, что у лежащего асфиксия: он проглотил кусок мяса и тот попал ему…
— Не в то горло?
— Назовем это так. И поскольку я имел опыт работы на скорой помощи, то, ни минуты не раздумывая, взял и пальцами—у меня же не было никаких инструментов при себе!—подцепил этот кусок мяса, вытащил его и выбросил. Интересно было смотреть, что происходило дальше: мужик вздохнул, покрутил головой, поднялся, прокашлялся и, пошатываясь, пошел восвояси. А остальные просто остолбенели—настолько быстро все произошло.
Но я же мог и не вытащить! Я же мог протолкнуть кусок дальше! По-хорошему его надо было корнцангом доставать, но у меня были только руки, и счастье, что я смог этот кусок мяса подцепить пальцами.
— А если б не смогли?
— Мне бы ничего не было: ну, не помог, хотел, пытался, но не помог! А вот в нынешнее время в случае неудачи я бы понес уголовную ответственность. Это было бы непредумышленное убийство, а могли бы еще доказать, что и предумышленное. Сейчас, в наших реалиях, я бы на эту процедуру не пошел—просто бы вызвал скорую. Но пока они приедут!
— То есть врач, думая о собственной безопасности, уже не будет рваться помочь?
— В таких экстренных ситуациях сто раз подумает. Но, знаете, занимая должность главного терапевта Москвы, я был экспертом в сложных социальных и профессиональных ситуациях и, к своей чести, могу сказать: ни один врач из тех, кто совершил ошибку и был строго наказан, при нас под суд не пошел.
Я могу высказать все в глаза, изложить это текстом, но никогда не потребую наказания. Административное — да. Уголовное — нет. Потому что уголовное наказание не сделает врача лучше. Больше того, скажу: ошибившимся врачам надо помогать! Поэтому, возглавляя Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, я считал, что моя задача как руководителя — помочь коллеге, пусть и оступившемуся, поверить в себя. Меня научил этому великий человек — Андрей Петрович Сельцовский, военно-полевой хирург, доктор наук, профессор, а на тот момент руководитель Департамента здравоохранения Москвы, который из меня, простого профессора, сделал лидера.
— В смысле — помогать?
— Когда-то, когда я был еще зеленым мальчишкой, мой учитель Зинаида Адамовна Бондарь преподала мне урок. У нас в виноградовской клинике тогда лежал больной с асцитом, и он попросил меня выпустить ему из брюшной полости жидкость. И я, молодой дурак, довольный, что уже умею работать руками, под утро ему жидкость выпустил — всю! Причем еще и полотенцем поджимал, чтобы вышло все до капли. И утром, когда надо было сдавать дежурство, побежал докладывать Зинаиде Адамовне: вот, мол, так и так, я выпустил больному с асцитом жидкость — похвалился! А Зинаида Адамовна мне: «Вы все выпустили?» — «Все!» — «Что ж, теперь вы будете, не выходя из клиники, сидеть с этим больным три дня, вытаскивая его из печеночной комы».
— Вытащили?
— Вытащил.

— Леонид Борисович, геронтологией вы заинтересовались в 52 года. Что это было — предусмотрительность?
— Нет, все вышло случайно. Желание понять старость появилось, когда я работал доцентом на кафедре пропедевтики внутренних болезней в Московском медицинском стоматологическом институте имени Н.А. Семашко и наша кафедра оказалась на базе Больницы старых большевиков. К тому времени я был молодым самоуверенным доцентом—еще бы, я же возглавлял кафедру! — но когда начинался мой обход, то коллеги, работавшие в больнице уже давно, за моей спиной шептались: «Какой толк, что он идет на обход? Он все равно поставит диагноз неправильно!» И когда эти разговоры дошли до меня, я задумался: а почему я ошибаюсь? И понял: ведь до этого я работал с людьми среднего возраста, а сейчас — со стариками, а у них все иначе. У меня был алгоритм: симптом — диагноз, симптом—диагноз. А со старыми людьми другой алгоритм: симптомы, синдром, а потом диагноз — все скрыто за синдромом, я должен дифференцировать синдромы. А обобщение опыта пришло потом, когда организовал и возглавил кафедру геронтологии и гериатрии при РМАПО и был назначен главным геронтологом МЗ РФ.
— А пример можно? Вот у пожилого человека болит коленка…
— Хорошо, я прихожу, слышу от пациента, что болит коленка, и думаю, что там не только она. Там надо смотреть стопы, позвоночник, паращитовидные железы—ведь у него может быть остеопороз… А когда начинаешь искать, находишь и малокровие, и холецистит. Ведь старый человек только пожаловался на коленку, а у него наверняка что-то серьезное, но он не обращает на это внимания, он к этому привык. И вообще старость — это боль, я вам сейчас дал абсолютную формулу старости. И люди привыкают к этой боли. Старость — это слабость, и люди привыкают к слабости. Старость — это забывчивость, и люди привыкают к своей забывчивости. Старость — это прогрессирование отсутствия ассоциативного мышления. Старость—это воспоминания о прошлом, и люди живут прошлым…
— Старость—это цепь потерь: то одного лишаешься, то другого…
— Меня никто ничего не может лишить. Не могу одно, зато могу другое. Потерял одно, нашел что-то новое. Есть такое понятие — «культура старения»: надо следить за собой, приучить себя к самообслуживанию, к культуре еды, к культуре мышления, к культуре постоянного самовоспитания, в конце концов, к культуре духовности.
Сила духа знаете в чем заложена? С кем ты, и во что ты веришь. Кому и чему ты посвящаешь свою жизнь. А воля к жизни определяется целью. Цель может быть и такой: я должен выжить.

— Но старики чаще всего одиноки, и врач для них может оказаться единственным человеком, кто ими интересуется.
— Врач — это человек, который должен уметь сопереживать больному и облегчать его страдания, этому меня научил мой великий учитель — профессор Абрам Львович Сыркин. Ведь если я сострадаю, то начинаю понимать болезнь и могу помочь. Даже словом. Я должен научить больного поверить в себя. Я должен научить больного побеждать себя. И я должен научить больного помочь себе выжить. Не хочу хвастать, но, работая в реанимации, я убедился, что если больной в сознании, то я могу заставить его выжить, не умереть. Своей силой воли. Своей энергией. Нас так учили, нам это прививали: «Больному надо говорить хорошую правду, надо вселять в него веру в свои силы».
— Но разве быть таким доктором — не значит быть избранным? По-моему, такие люди и есть настоящие ангелы добра, избранники Божьи?
— Да будет вам, просто я считаю себя хорошим врачом.
Беседовала Анна Кузнецова