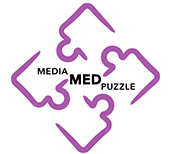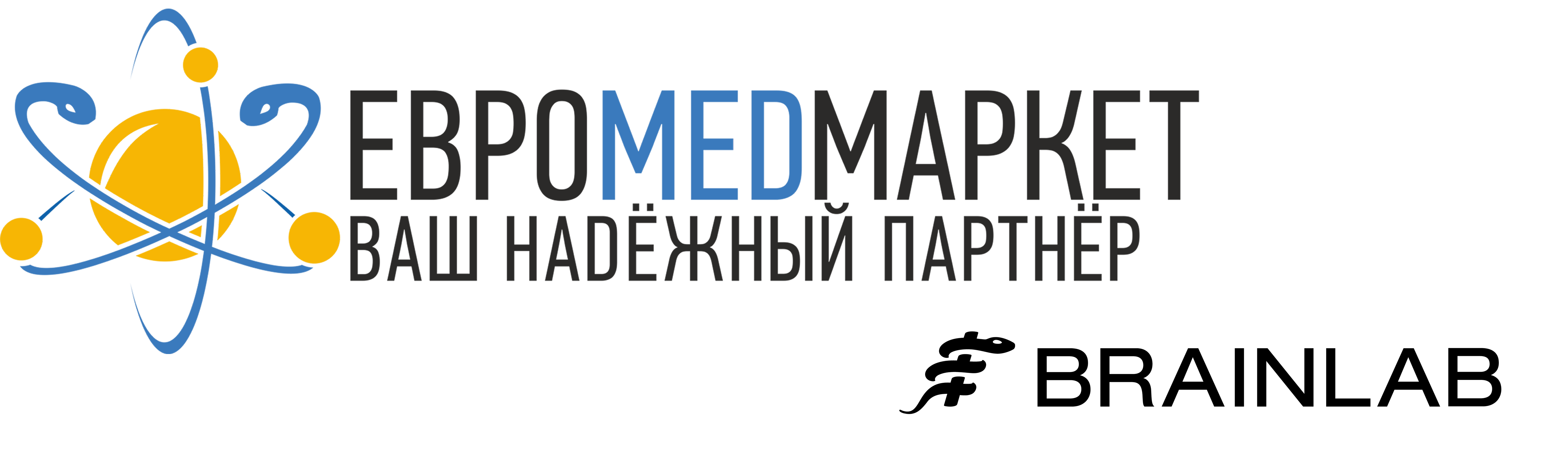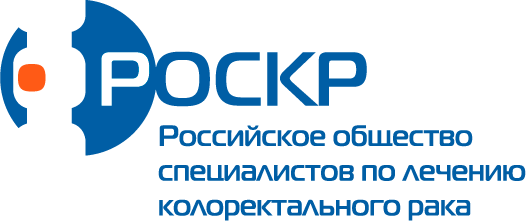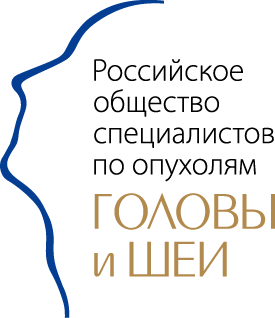Статьи
Степень свободы и окно возможностей
Обычно в нашей газете вопросы врачам задают их коллеги, выступающие в роли медицинских корреспондентов. Но в этот раз мы решили отойти от традиций, отправив на интервью обычного журналиста, правда, с опытом борьбы с онкологией. Учитывая, что медицина становится все более пациентоориентированной, редакция надеется, что этот диалог будет интересен нашим читателям. А главного редактора мы благодарим за то, что он рискнул пойти на этот эксперимент.
Портретное, то есть раскрывающее личность, интервью поначалу не задалось: поисковик на запрос «Жуков Николай Владимирович, онколог» выдавал на-гора научные статьи, но молчал о характере и образе мыслей их автора. Да и сам разговор начался фразой, не оставляющей журналисту никаких надежд: «Уж не знаю, чем могу быть интересен для интервью такого формата! У меня голова так устроена, что я не в состоянии связать пространственно-временной континуум. Даже дочка удивляется: “Папа, как ты живешь?” Да, я помню, что родился в 1972-м, университет окончил в 1995-м, но если вы сейчас покажете мне мое фото с какого-то события, я не вспомню, когда это было и что со мной тогда происходило…»
Честно говоря, собираясь на встречу с Николаем Владимировичем, рассматривать его фотографии и выведывать подробности частной жизни я не планировала. Однажды пролеченная от онкозаболевания каким-то неведомым мне химиотерапевтом, я хотела одного — понять, кто они, наши спасатели? Как мыслят? Как принимают решения, цена которым — спасенная жизнь?
— Николай Владимирович, самые увлекательные интервью, но и самые трудные — о том, как рождается мысль, создаются новые смыслы. В поэзии и искусстве, например, по утверждению Осипа Мандельштама, нет готовых рецептов, каждое решение — всегда акт творчества. В медицине так же?
— Медицина небинарна, а уж в онкологии тем более нет четких троп. Что касается поэзии, то у меня здесь особое восприятие. Меня поэзия, если она не положена на музыку, чаще всего не трогает, стихи я воспринимаю просто как информацию к размышлению, оцениваю на уровне «нравится — не нравится». Потрясающий драйв я скорее получу от прочтения хорошей научной статьи, особенно если понимаю, что в процессе чтения нащупываю нечто, что может привести к какому-то решению: мне нравится достраивать мозаику. Правда, бывают и грустные моменты, когда осознаешь, что давно все это знал, но не опубликовал. Или не имел возможности провести эксперимент, подтверждающий твою теорию. Самое горькое — осознание упущенных возможностей.
Это мой страшный сон — упущенные возможности, когда речь идет о конкретном пациенте. Поэтому, принимая решения по больным, стараюсь учитывать любые детали, чтобы не упустить главное — окно возможностей, не прозевать момент, когда еще можно что-то изменить, а завтра окно захлопнется и помочь пациенту уже будет нельзя.
Принимая окончательное решение, я стараюсь не оставлять вопросы без ответов и «странности» без объяснения. Необычные симптомы, нетипичное течение болезни, непонятный ответ на ранее проведенное лечение... Эти вопросы свербят в мозгу, требуя ответа: «А вдруг ты пропустил что-то действительно важное?» Подобной внимательности я стараюсь научить и своих ординаторов, молодых врачей. Простые диагнозы и простые решения бывают лишь тогда, когда не срабатывает внутренний цензор, спрашивающий: «Ну, молодец, а вот это ты как объяснишь?»
— Здесь, наверное, важен огромный клинический опыт?
— Когда говоришь, что у тебя «огромный клинический опыт», это выглядит нескромно. Опыт есть, и он достаточен, и в большинстве случаев в голове возникает четкое представление, что нечто похожее я уже видел, слышал, читал. Но если мне картина не ясна, то я посмотрю литературу, буду мучить коллег, и все это до тех пор, пока не пойму одного из двух: либо я ответ нашел, либо в доступной мне вселенной и с доступными мне ресурсами его найти невозможно. И тут нужен навык поиска, умение работать с «боковыми ветками». Бывает, ответ лежит не в привычной плоскости, а чуть в стороне.
Знаете, есть книга, которую я рекомендую прочесть всем, кто входит в специальность, она называется «The emperor of all maladies: a biography of cancer», или в русском варианте «Царь всех болезней: биография рака». Ее написал Сиддхартха Мукерджи, американский онколог индийского происхождения. В ней рассказана история борьбы против онкологических заболеваний с древних времен, правда, тогда она была малоосмысленной. А вот осмысленной она стала со второй половины XX века, когда наши американские товарищи объявили War on cancer, войну раку, причем на уровне президента: в 1971-м Ричард Никсон подписал «Национальный закон о борьбе с раком». И американцы, воодушевленные успехом Манхэттенского проекта по разработке ядерного оружия, пригласили в War on cancer много успешных менеджеров от науки. Но Манхэттенский проект — это была goal-oriented science.
— Наука, направленная на достижение конкретной цели?
— Да! Ведь как тогда рассуждали американцы? «Перед нами стоит цель — создать атомную бомбу, и все исследования мы направляем только в эту сторону. А если появляется какая-то боковая ветка, мы ее рубим: нам не нужно понимать “как и почему”, с этим мы разберемся позже, сейчас главное — достижение цели». И этот же принцип goal-oriented они попытались перенести в онкологию, потому что и тут уже были первые достижения, но оказалось, что, увы и ах, без понимания закономерностей и базовых основ ничего не получается. С онкологией вышло сложнее, чем с созданием атомной бомбы. Слишком много различий, здесь не единое изделие, а много болезней, хотя формально и объединенных одним понятием: «рак, злокачественное новообразование, ЗНО». Поэтому принцип goal-oriented science в онкологии сработал не так, как ожидалось.
Но есть второй вариант познания, который называется endless science — познание ради познания, когда задача состоит в том, чтобы умножить количество каких-то знаний и пониманий, а прикладные задачи решаются по ходу дела. Люди устроены по-разному: одни идут в goal-oriented science, другие — в endless science. И там и там есть успешные. Но мне ближе endless science.
— То есть для вас особый кайф — решение непростых задач?
— Да, но кто-то получает его от достижения поставленной цели в запланированные сроки с теми ресурсами, которые он заложил. Такие люди гораздо более востребованы, а с практической точки зрения, возможно, гораздо более эффективны. У меня по-другому, я специалист «на ценителя». Поэтому я и благодарен клинике, в которой работаю, за то, что мне дают возможность работать именно так.
Поймите, все, что связано с человеком, это такая многоуровневая ситуация! Когда-то, на заре попыток использования искусственного интеллекта в онкологии, IBM, крупнейшая компания-производитель программного обеспечения, решила создать ни много ни мало искусственного онколога! И создать его они хотели вместе с одной из ведущих онкологических клиник США MD Anderson Cancer Center — Онкологическим центром имени Монро Данауэя Андерсона. Были большие ожидания, много презентаций, но максимум, что разработчики сумели явить миру, это система поддержки врачебного мнения — по сути, электронный справочник, который, основываясь на доступных рекомендациях и исследованиях, выдает на выбор врачу возможные варианты лечения. Пока до модели искусственного онколога еще слишком далеко. Не получается в онкологии наложить кальку на болезнь и больного: вариантов слишком много, а однозначных, схематизированных решений мало.
— Но ведь есть нечто, что кажется устойчивым: существуют же протоколы!
— Да, протоколы существуют везде, вопрос в том, что протокол спасает 80 % больных, а 20 % в лучшем случае не приносит пользы. И если брать общее благо, то схематизированное лечение спасет больше жизней, но если брать индивидуального пациента, то it depends, то есть это не всегда так.
— Тогда для этих 20 % больных одна надежда — на чудо?
— Смотря что понимать под словом «чудо». В моей практике бывают две ситуации. Первая: я сделал то, что нужно, и получил то, что ожидал. В этом случае любой врач, способный освоить алгоритмизированное лечение, то есть обладающий примерно таким или даже гораздо более низким уровнем знаний и доступом к информации, но мотивированный на то, чтобы помочь пациенту, получит тот же результат. Вторая ситуация — когда ты понимаешь, что больной остался жив только благодаря тому, что попал в твои руки. Вот это чаще всего категория чуда, потому что до меня иногда — не всегда, только иногда! — доходят сложные пациенты, положение которых таково, что в рамках существующих алгоритмов — ну все, к сожалению, все, надежды уже нет. А твое индивидуальное решение кардинально меняет ситуацию к лучшему. Иногда такую проблему можно решить просто поиском в медицинской литературе, но зачастую это требует анализа и синтеза информации из многих источников — для принятия какого-то, бывает, рискованного решения.
Хорошо помню одного из первых моих пациентов в институте имени Герцена — я как раз пришел туда возглавить лекарственное лечение. Мальчишка приехал в Москву из далекой глубинки с герминогенной опухолью — заболеванием, которое с высокой степенью вероятности может быть излечено даже при наличии отдаленных метастазов. Но проблема заключалась в том, что опухолевая масса была очень большой и при этом происходил ее спонтанный распад, вызвавший почечную недостаточность, тяжелое общее состояние, а диализ был недоступен. По всем классическим критериям этот пациент вообще не подходил для проведения химиотерапии: в таком состоянии он мог бы не перенести осложнений. И если бы мы оставили его без противоопухолевого лечения, никто бы не бросил в нас камень.
Решение, лежавшее на поверхности, тогда, увы, не вызвало энтузиазма у моих коллег. Звучало оно так: «Без лечения парнишка умрет со стопроцентной вероятностью, а с лечением все же есть какой-то шанс, что он выживет и выздоровеет…»
— Сколько процентов? Три, пять, десять?
— Так кто же его знает, но точно больше нуля… Беда в том, что ничего не делать было бы проще, ведь если больной, к сожалению, умрет от осложнений, то для нас, врачей, это может стать большой юридической проблемой: будет повод для обвинения — «вы нарушили правила». Дело было в 2013 году, парень жив, излечен.
— Николай Владимирович, а что дает такую степень свободы принимать нестандартные решения? Авторитет? Опыт?
— Слушайте, у меня эта степень свободы была с начала ординатуры. Когда я чувствовал, что верю в принятое решение и готов за него биться, у меня эта степень свободы появлялась. Хотя стопроцентной гарантии никогда нет. Отступая от уютных стандартов, ты все равно рискуешь, всегда. Здесь вопрос не в том, предоставляется тебе эта степень свободы или нет. Речь о том, готов ли ты сам воспользоваться ею.
— Это вопрос об ответственности и желании ее нести?
— Человек, рискующий разумно, не идиот, он безусловно ответственен. Потому что самый безответственный шаг в сложной ситуации — это поступить по протоколу, осознавая, что этому пациенту он не подходит! К сожалению, мир несправедлив, рефлексирующие и думающие врачи у нас чаще всего проигрывают. Сколько случаев, когда врачей действительно стоило бы наказать, но даже никаких поползновений не делается в эту сторону, потому что по форме все lege artis. А бывает, что риск был оправдан, врачами двигали благие побуждения, но им достается за то, что пошли на него.
Легко жить, когда все всегда очевидно. Есть такое понятие — «фельдшерское мышление». Да, у фельдшера может быть колоссальный клинический опыт, но он всегда вынужденно алгоритмизирован в принятии решений: ага, у меня есть вот такие симптомы, они больше всего укладываются в такую-то картину, значит, диагноз такой, лечить надо так-то. А что симптомы укладываются лишь на 50–60 %, это уже не важно, решение принято — и нет сомнений, нет рефлексии. А у меня сомнения есть всегда. Американскому писателю Чарльзу Буковски принадлежит фраза: «Беда этого мира в том, что умные люди полны сомнений, а идиоты полны решимости».
— Вечные сомнения способны разрушить человека. Для вас это свойство тоже разрушительно?
— Нет, оно меня не разрушает. Оно для меня проигрышно. А для пациента выигрышно. Поэтому мне, исходя из личного КПД, проще принять решение и забыть, не переживая по этому поводу. Но для пациента моя склонность к сомнениям выигрышна. Потому что, даже если я уже принял решение, но постфактум все равно раздумываю: «А правильно ли я сделал?», бывает, что такая рефлексия может меня одернуть и я пойму, что все-таки ошибся и надо сделать по-другому. Конечно, можно дождаться неудачи, сказав: «Медицина — наука неточная, так бывает», — и снова начать думать. Но для пациента лучше, если все исправить до того, как это произойдет.
— Николай Владимирович, а как именно вам в голову приходят решения? Поделитесь секретами?
— У меня нет каких-то магических шаров, я работаю ровно с тем же объемом доступной информации, что и другие. Хотя какие-то свои приемы у меня есть. Например, если клинически картина какое-то время не выстраивается, ее надо ненадолго оставить в покое, «положить посушить» — так делают художники, повернув холст к стене. Если штурм не удается с первого раза, надо дать мозгам поработать самостоятельно.
— Прямо по Мандельштаму: «Отодвинь явление — и я с ним справлюсь, я его освою». А как происходит процесс мышления? Не отслеживали?
— Как скрипят мозги? Все начинается с одного: если ответа нет в личном багаже, посмотри, что по этому поводу есть у других. Для начала по верхам, и тут на помощь приходит волшебник Гугл, дающий наибольшую широту поиска тому, кто знает, что искать. Изначально я никогда не ищу информацию по специализированным медицинским библиотекам: там, как ни странно, поле для поиска гораздо уже. К примеру, «Медлайн» — у меня в поиске более широкая сетка получается, а он дает какой-то другой набор.
При этом отрабатываю какие-то боковые ветки, впрямую с проблемой не связанные, и иногда на третьей, пятой, шестой странице поискового запроса понимаю, что вот он, ответ. Правильно составить запрос очень важно: надо, чтобы поисковик тебя понимал. А если ответа по алгоритму нет, то есть пациент в него не укладывается, иду дальше по веткам, и глубина тут может быть разной — начиная с полнотекстового изучения того, что написано, и заканчивая ссылками в конце, часто с параллельным изучением веток…
—Так это получается такой серфинг?
— Да, серфинг. Ищешь и плывешь — дальше, дальше… Самое главное — не забыть путь и место, где ты ответвился. Почему в сложных случаях приходится искать широко? Об этом редко говорят, но в онкологии надо всегда учитывать не только чисто медицинские компоненты, но и параллельные входящие. Например, знание о том, как появился тот или иной вариант лечения, дает дополнительные опции в поиске ответа. У новых лекарств есть не только медицинская, но и коммерческая, и регуляторная составляющие, поэтому, выбирая из вариантов, надо понимать, что было определяющим. Иногда коммерчески успешному современному препарату со скромными клиническими результатами уделяют гораздо больше внимания, чем вышедшему в тираж препарату из прошлого, от которого в данной конкретной ситуации будет больше проку, хотя он никем и не продвигается. Помню, как в одной статье о противорвотной профилактике в онкологии было написано: «Единственным недостатком дексаметазона в этом качестве является его малая цена и отсутствие промоции со стороны фармацевтических компаний».
А еще надо помнить, что эксперты, составляющие рекомендации, тоже люди и могут принимать решение под воздействием разных причин. Хотя хорошо, когда за рекомендациями виден именно эксперт, а не безликая группа авторов. К примеру, существуют американские клинические рекомендации, которые часто берут за основу — National Comprehensive Cancer Network (NCCN), а есть рекомендации нашего Минздрава. Не буду сопоставлять их по смыслу и составу, но и в тех и в других вроде бы главенство должна иметь доказательная медицина, поэтому утверждения в обоих документах сопровождаются цифробуквенным кодом, который говорит об уровне убедительности. И вроде бы и в NCCN, и у нас цифры и буквы. Но есть нюанс. Цифры в NCCN обозначают уровень доказательности, то есть на основании каких исследований дана рекомендация, а буква — это уровень консенсуса экспертов, то есть насколько они согласны друг с другом по поводу приемлемости этих доказательств. А в российских рекомендациях и цифры, и буквы относятся к исследованию, а личности врача-эксперта там нет.
— Николай Владимирович, а это хуже или лучше?
— Конечно, хуже. Учитывая, что медицина небинарна и в ней нет четких троп, понимание, сошлись ли эксперты в одном мнении, или же они разошлись в выводах по обсуждаемому вопросу, — гораздо более важная информация, чем характеристика этих исследований анфас и в профиль.
Поймите, в онкологии все базовые подходы, ставшие аксиомой исходя из наблюдений и здравой логики, имеют наименьший уровень доказательности. Возьмем хотя бы необходимость удаления опухоли. Были ли рандомизированные исследования о том, что опухоли надо удалять? Так, чтобы у одной группы пациентов ЗНО убирали, а у другой — оставляли на месте, а потом сравнивали результаты. Нет, их не было и вряд ли кто-то решится их провести. С точки зрения доказательной медицины здесь будет самый низкий уровень доказательности, ведь рандомизированных исследований не было, не было даже метаанализа! А есть всего лишь мнения экспертов, которые с чего-то решили, что опухоль все же лучше удалить, а не оставлять такого больного под наблюдением!
А вот дальше уже идет та область знаний, где рандомизированные исследования нужны: когда выигрыш не столь очевиден, когда нужно сравнить разные методы и подходы, когда даже после проведения многочисленных исследований добиться однозначного ответа не получается. Что лучше: химиолучевая терапия или хирургия, препарат А или препарат В? Какие критерии мы оцениваем словами «нужны» и «лучше»? Ответы на эти вопросы уже согласуются с доказательной медициной. Ведь у каждого из методов существуют свои плюсы и минусы, и они не столь очевидны.
Например, у меня есть пациент — мальчик с раком языка, и я понимаю, что хирургия дает больше шансов на полное излечение с первой попытки. Но ему придется удалить весь язык. А химиолучевая терапия даст несколько худший результат, хотя и далеко не нулевой, но при этом больной сохранит язык. Какой мне сделать выбор? С точки зрения доказательной медицины хирургия предпочтительнее. Но консенсус экспертов в отношении выбора далеко не стопроцентный — присутствуют обе опции. Вот почему, когда в клинических рекомендациях буквы говорят об уровне консенсуса экспертов, это лучше. Потому что врачам, не являющимся специалистами в данной области, но занимающимся лечением, они подскажут: «Ребята, у вас по доказательной базе одно, но эксперты здесь во мнении не сошлись, поэтому у вас есть еще одна опция, которая может подойти». В этой ситуации пациентоориентированный врач, возможно, скажет родственнику или самому больному: «Есть два варианта, а какой из них выбрать — решать вам…»
— И тем самым переложит ответственность на больного…
— Вот нехорошие ваши слова! Они подразумевают, что основная задача доктора — спихнуть с себя ответственность и сделать это проблемой пациента.
— Но родственники, да и сам больной не компетентны в онкологии!
— Послушайте, если вам скажут: чтобы иметь максимальный шанс остаться в живых, нужно удалить язык или ногу, но есть альтернативный вариант с нюансами, кто тут будет компетентен в том, как поступить? Кто должен принимать решение? Все говорят, что у нас пациентоориентированная медицина, но почему тогда от врачей требуют патернализма? Хотите, чтобы мы принимали решение за пациентов? Мы примем! Только исходя из своего представления о добре и зле. И из своих интересов. Но если вы хотите, чтобы пациента рассматривали как личность, как человека, который сам выбирает свой путь, свою судьбу, тогда примите определенную долю нагрузки на себя…
Хотя на самом деле разговор здесь не про ответственность, а про понимание, что для больного лучше. Когда я в сложной ситуации разговариваю с пациентом, у меня нет желания переложить ответственность на него, тем более что это невозможно. Какое бы решение он ни принял, если все пойдет не так, никто не помешает больному и его близким сказать, что они ничего не поняли и доктор во всем виноват.
Другое дело, что я не с каждым буду беседовать по душам, а только с тем, кто в состоянии эту информацию воспринять и осмыслить. Более того, если я сознаю, что впереди тяжелый разговор, я всегда спрошу, готов ли человек к нему. Поймите, задача нормального доктора не в том, чтобы сбросить с себя груз ответственности, сказав потом: «Ну, мы же вас предупреждали, что все будет плохо!» Основная задача врача — дать человеку выбор или информацию.
Я и сам в качестве пациента хотел бы эту информацию получить. Хотя бы о том, всякое ли ЗНО нужно лечить. Есть опухоли, которые даже без лечения с высокой вероятностью не доставят проблем пациенту до смерти от других причин. Хотел бы я лечения, например, рака предстательной железы низкой степени злокачественности? Лечения хирургией или лучевой терапией с риском получения импотенции, недержания мочи и других прелестей, если это, возможно, не принесет мне пользы? Не хотел бы!
И даже если один метод добавляет какое-то время жизни за счет значимого снижения ее качества, я хочу знать о существующих альтернативах! И многие пациенты хотели бы быть в курсе. Но кто донесет обычным людям эту информацию, кто объяснит им, что есть выбор?
Кажется, у Овидия есть четверостишие, начинающееся словами: «Глупо судьбу я просил дать мне дней, сколько песчинок в горсти…» А знаете, как оно заканчивается? «…Я же забыл попросить, чтоб на юность пришлись эти дни». Эти стихи — хорошая иллюстрация к вопросу о приоритетах и выборе.
По одному критерию метод может превосходить другой, но по косвенным факторам для конкретного человека он может оказаться хуже. И эксперты нужны для того, чтобы учитывать те самые песчинки. Медицина, конечно, отчасти наука, ее пытаются сделать наукой. Но не в меньшей степени она искусство, и самые лучшие художники определяются очередью под дверью кабинета.
Анна Кузнецова